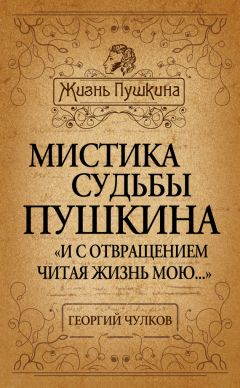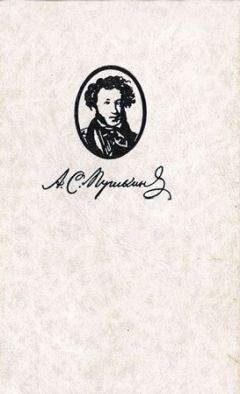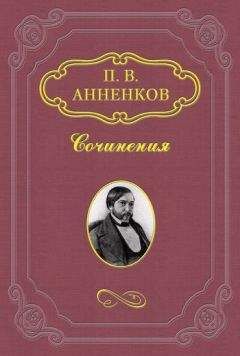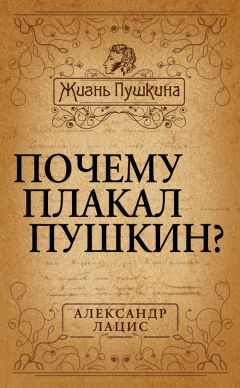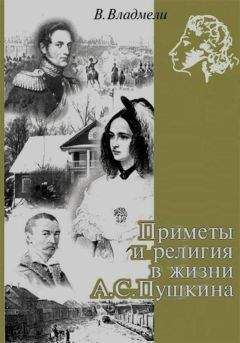Виктория Малкина - Гротескное и фантастическое в культуре: визуальные аспекты. Сборник статей
Особую роль фантастическое приобретает в современной драме. Появление фантастического в новейших пьесах обусловлено, видимо, главным предметом её художественного освоения – «кризисом идентичности», являющимся одним из исторических вариантов кризиса частной жизни, репрезентируемого именно драмой как литературным родом. Смещение/совмещение границ возможного и невозможного становится продуктивным при «построении» «образа мира» (и образа человека) в современной драме. Последний часто сознательно выстраивается автором не в соответствии с «эстетикой готового завершённого бытия», связанной с «с четкими и незыблемыми границами между всеми явлениями и ценностями» (М. М. Бахтин), в том числе, между возможным и невозможным, а в соответствии с гротескной (гротескно-фантастической) «эстетикой становления». Гротескно-фантастические метаморфозы персонажей, художественного времени и пространства объясняют продуктивность уподобления изображённого мира в современной драме хронотопу сна, кошмара, галлюцинации, видения (что часто затрудняет возможность визуально-сценической «конкретизации» изображаемого). В качестве примеров можно привести такие произведения, как «Ю» О. Мухиной, «Чайная церемония» А. Строганова, пьесы братьев Пресняковых, М. Курочкина и др.
Проблема фантастического в лирике относится к числу наименее исследованных. Цв. Тодоров считал, что фантастического в поэзии быть не может: «Если, читая текст, мы отвлекаемся от всякой изобразительности и рассматриваем каждую фразу как чисто семантическую комбинацию, то фантастическое возникнуть не может; как мы помним, для его возникновения требуется наличие реакции на события, происходящие в изображаемом мире. Поэтому фантастическое может существовать только в вымысле; поэзия фантастической быть не может»18. Это связано с тем, что Цв. Тодоров, во-первых, отказывал поэзии в изобразительности, считая, что она «лишена способности вызывать представление о чем-либо, что-то изображать»19 (впрочем, он отмечал, что в ХХ веке ситуация меняется), во-вторых, полагал, что поэтические образы следует понимать буквально: «Поэтический образ – это сочетание слов, а не вещей, и бесполезно, более того, вредно переводить это сочетание на уровень чувственно воспринимаемых предметов»20.
Однако исследования по исторической поэтике лирики (А. Н. Веселовского, А. А. Потебни, Л. Я. Гинзбург, С. Н. Бройтмана и др.) показали, что привычная нам тропеическая образность, основанная на переносе значения слова (где слово существует как отдельная, чисто вербальная субстанция, о которой говорит Цв. Тодоров) – не единственный вид словесного образа, существовавший в лирике. Кроме того, Р. Ингарден на примере анализа сонета А. Мицкевича показал, что в лирике существует зримость и наглядность, позволяющие увидеть мир, созданный в лирическом произведении, в его целостности21.
Еще одним подтверждением ошибочности высказываний Цв. Тодорова является практика – существование такого явления, как фантастическая поэзия (fantastic / speculative poetry): уже много лет выходят сборники, антологии и альманахи (и в России, и за рубежом), в США с 1978 года существует Ассоциация научно-фантастической поэзии, ежегодно присуждается премия поэтам, пишущим об ужасном, фантастическом, научно-фантастическом и т. п. То есть материал есть довольно обильный, но в имеющейся по его поводу научно-критической рефлексии речь чаще идет о поэзии, чем о лирике, и фантастическую поэзию рассматривают просто как часть фантастики: все то же самое, что в прозе, только в стихах. Соответственно, классификация существует исключительно по тематическому принципу: стихи об эльфах, роботах, ужасах и т. п.
Понятно, что такой способ изучения не дает представления о специфике функционирования фантастического в лирическом стихотворении: проблему надо рассматривать с точки зрения структуры, а не тематики. А если говорить о структуре, то, с учетом специфики лирики как рода литературы, фантастическое там может существовать на двух уровнях.
Первый – это сюжетный уровень. Разумеется, имеется в виду именно лирический сюжет, то есть система событийно-ситуативных элементов лирического произведения, данная с позиции лирического субъекта в процессе развёртывания его рефлексии. Тем не менее, в этом способе репрезентации фантастического есть много черт, сближающих лирические и эпические фантастические произведения, тем более, чаще всего мы сталкиваемся с ним в фабульной или нарративной лирике, либо даже в лироэпических текстах (романтическая баллада). Соответственно, фантастическое проявляется в том событии (событиях), о которых рассказывается. Сближаются такие тексты с эпикой и по принципу организации субъектной структуры: фантастический сюжет часто сопровождается внеличными формами авторского высказывания, т.е. рассказом от третьего лица, когда субъект речи грамматически не выражен. Таким образом, «колебания» тут испытывает в первую очередь читатель, т.к. позиция лирического субъекта четко не эксплицирована («Воздушный корабль» М. Лермонтова).
Фантастическое может быть в любом из элементов структуры сюжета или в нескольких из них. Так, фабула может быть заимствована из уже «готового» архетипического сюжета мифа, легенды, сказки и т. п. фантастических эпических текстов либо текстов с элементами фантастики («Воскресение мертвых» В. Набокова, «Бездомный домовой» Н. Матвеевой).
Время и пространство могут трансформироваться вопреки «обычной» логике, граница между разными мирами может казаться легко переходимой, проницаемой – таким образом формируется фантастическое двоемирие («Лес» Н. Гумилева, «С кометы» В. Брюсова, «Звезда Маир» Ф. Сологуба).
Соответственно, событием может стать взаимодействие двух миров (причем как в пространстве, так и во времени), их столкновение или взаимопроникновение, переход лирического субъекта из одного мира в другой (опять-таки, как переход пространственной границы, так и путешествие во времени), встреча с выходцем из иного мира: ожившим мертвецом, феей, эльфом, роботом, пришельцем, волшебным предметом и т. п. («Бесы» А. Пушкина, «Ворон» Э. По, «Заблудившийся трамвай» Н. Гумилева, «Великан» В. Набокова, «Мумия» В. Брюсова, «Когда поют солдаты» Ф. Сваровского).
Возможно также появление сверхъестественного, например, предсказаний, пророчеств, вещих снов, другого зрения, которое позволяет видеть невидимое и т. п. («Песнь о вещем Олеге» А. Пушкина, «Глаза» В. Набокова, «Электронная сказка» В. Шефнера). А также хронотоп и события могут сопровождаться фантастическими мотивами, такими, как превращения, двойничество и др. («Метаморфозы вампира» Ш. Бодлера).
Разумеется, все перечисленные элементы могут существовать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.
Отдельно необходимо сказать о романтической балладе, поскольку появление там фантастического элемента является одной из составляющих жанрового инварианта. По мнению Д. М. Магомедовой, главным специфическим признаком романтической баллады является «сюжет, который строится на переходе границы между „здешним“ и потусторонним мирами персонажем из иного мира и встрече его с человеком, которая заканчивается катастрофой»22 («Лесной царь» И. Гете, «Ленора» Г. Бюргера, «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» В. Скотта, «Тростник» М. Лермонтова и др.).
Кроме сюжета, фантастическое может проявляться в лирике как разновидность словесного образа. Под словесным образом мы подразумеваем конкретно-чувственную, индивидуально-предметную форму отражения действительности в художественном мире, целостность бытия, выраженную в чувственно-наглядной форме при помощи слов и словосочетаний.
Здесь речь идет уже о фантастическом как способе рассказывания, то есть само событие рассказывания содержит элементы фантастического. «Колебания» испытывает не только читатель, но и лирический субъект, который чаще всего обозначен при помощи личных местоимений «я» или «мы». Он может находиться в пограничном состоянии – смерти, безумия, сна, видения, причем граница между этими состояниями также может быть нечеткой («Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана») М. Лермонтова, «Сон о рояле» Ю. Левитанского).
Достаточно часто фантастическое проявляется путем размывания границ между прямым и переносным значением слова либо буквализацией (реализацией) тропов, когда привычному переносному значению возвращается его прямой (буквальный) смысл, либо граница между двумя значениями также размывается («В этот мой благословенный вечер» Н. Гумилева, «Фантастика» В. Шефнера). Также иногда фантастическое появляется (или исчезает) благодаря паратексту: заголовку или эпиграфу («Призрак» А. Ахматовой, «Офорт» Н. Заболоцкого).